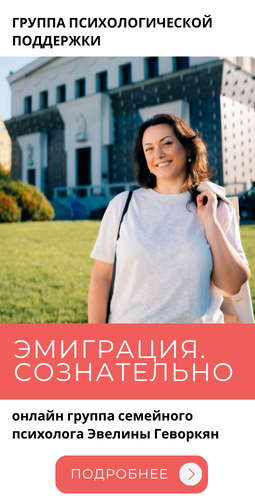Люблю — не могу

Марина Травкова, системный семейный психотерапевт:
Я помню чудное мгновенье: в возрасте лет шести подружка призналась мне, что если она высовывает язык и долго держит его снаружи, то он становится такой смешной, сухой и шершавый, особенно в тот момент, когда его втягиваешь обратно, в рот. А я то считала, что такое свойственно только мне, додумалась до этого только я, а тут — вон оно как! У всех все одинаково?
Потом было еще много открытий чудных, умаляющих чувство собственной уникальности. Но есть еще белые пятна на этой карте! И время от времени я встречаю тех, кто искренне считает, что он/а один/одна такая в мире этом, живущий/-ая со своей постыдной тайной. Вот вам одна из таких тайн.
Женщины и мужчины, которые при первом звуке маминого голоса по телефону, сначала с тоской думают «О, господи», потом с напряжением «что еще стряслось» и только затем, вслух «как дела, мама?» И виртуозы коротких ответов: я занят, я на работе, я не могу сейчас говорить. Да-да, я перезвоню, мама. Как же ты достанешь, везде, всегда.
Я уехал/а от тебя за 3000 километров, я защитил/а от тебя личное пространство (это так дорого, мама, не звони мне на домашний), но я знаю, что если в понедельник утром не наберу тебя из офиса, в понедельник к полудню ты будешь пить валерьянку и рисовать себе страшные картины моей гибели от — , начиная от воспаления легких и заканчивая ядерной зимой.
И я знаю, что эту твою валерьянку я буду чувствовать спинным мозгом, и меня будет есть, пожирать легкое, но беспощадное пламя чувства вины. И это мерзкое тягучее чувство, эта пытка, — как сидеть на тлеющих углях, — ну, нет. Пусть уж каленым железом, но один раз, в урочное время. Я позвоню тебе, мама. Сам/а позвоню, обязательно.
Как это я ничего не рассказываю тебе, мама? Да мне и особо нечего рассказывать, знаешь ли, все как всегда, все обычно. Я, знаешь ли, вообще не болтлив/а. Давай лучше обсудим твоих друзей, сослуживцев, и я минут двадцать послушаю, какой сволочь муж у теть Зины, на которую мне глубоко плевать, только ты не трогай меня, мама, мою жизнь.
Когда ты едешь в гости, я знаю, что должен/должна радоваться, но я, сволочь, почему-то не радуюсь. Я жду тебя с напряжением, и, честное слово, порой кажется, что лучше бы я на передовую, где рвутся гранаты, чем вот это: прийти вечером и увидеть тебя, надутую, одинокую, о-которой-никто-не-думает. Треклятое чувство вины обвивает и душит, душит. Когда ты уезжаешь, оно душит тоже, через облегчение, после которого — звонок утром в понедельник.
Или: я бы поехал/а с друзьями на Бали, но вместо этого потащусь в Тмутаракань на Новый Год и потрачу его на унылый салат Оливье в твоем обществе, мама. Потому что мы-же-семья и потому что ты-же-обидишься. И вздохи, эти вздохи. Это же разрывные пули. Лучше бы ты орала. Лучше бы ругалась матом. Только не вздыхай, вот так, тяжело, по-особенному, так, что сразу ясно, что у всех дети как дети, а тебе за что…
Я буду тщательно скрывать от тебя свои беды, мама. Чтобы, к тяжелому моему состоянию, не добавилось еще и того, что надо успокаивать тебя. Боливар не вынесет двоих, хребет может переломиться. Чтобы не чувствовать на себе твой взор и не слышать этот вопрос:»Ну, почему это случилось именно с тобой» Что избежать твоих мудрых версий про не то делал/а, не там ходил/а, не так поступал/а, и — самое под дых: «а я тебе говорила». Да, ты говорила. Поэтому тебе я ничего не скажу.
Поехать с тобой в путешествие? Поселиться с тобой в одном отеле? Провести с тобой отпуск? Приехать к тебе на праздники — только не это! Господи, да мне даже трудно тебя обнять. Стыдно признаться, я вообще не люблю, когда ты до меня дотрагиваешься!
Я не скажу тебе, что не могу носить одежду, свою же одежду, если ты надела ее хотя бы раз. Носки, банный халат, мой любимый теплый свитер. Тебе было холодно, а мне что, жалко что ли?. Мне не жалко, теперь забери его совсем, или я его выкину. Я заведу для твоих визитов отдельный крем, шампунь, фен, расческу, чашку, только не трогай мое. Может быть даже, я буду охранять от тебя моих детей, чтобы ты не сделала с ними то, что сделала со мной. И не стирай свои вещи вместе с моими, бога ради. Какая тебе разница, кто мне сейчас звонил? Как это тебя вообще касается? Можешь ты оставить меня в покое?
Я знаю, ты меня любишь. Я знаю, что я тебя люблю.
Когда в фильмах появляются сцены с маленькими детьми, потерявшими и нашедшими матерей, — мы плачем. На словах «ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети» у нас с тобой слезы на глазах. Когда песня заканчивается, ты бросаешь на меня взгляд, перевод которого давно известен «только потеряв свою маму, ты поймешь…но будет поздно». Я сохраняю спокойствие, но внутри себя втягиваю голову в плечи. Если бы только у меня был домик, как у улитки! Там, внутри меня, моя голова втянута до уровня груди, вывернута наизнанку и выпукло-вогнута много раз. Это больно, но никому не видно.
Если мне повезет, у меня будет супруг/а, который меня уведет/увезет от тебя, мама. Который заявит на меня больше прав, чем ты. Который будет для тебя препятствием, даже если мы будем жить в одной квартире. То, что этот валун, может быть, закрывает меня не только от тебя, но и от жизни, я могу понять только потом.
Что же с нами не так, мама? Почему кто-то ездит с матерями в отпуск? Почему кто-то доверяет маме все свои тайны? Со мной что-то не так, мама?
Я плохо родился/-лась, тебе было больно и страшно, папа напился или его уже не было, я был/а сложным ребенком, тебе столько пришлось вынести.
Я плохо ел/а, ты кормила меня насильно, и я же сам/а виноват/а, зачем я заставлял/а тебя так переживать?
Я плохо спал/а, мне было страшно ночами, и я не давала тебе высыпаться.
Я плохо ходил/а в детский сад, с истериками и плачем, мне там было ужасно, господи, сколько же ты вынесла этих утренних слез.
Я боялась оставаться дома одна, сколько же вечеринок и встреч с подругами ты пропустила по моей вине!
Как пошатнулась твоя карьера, из-за того, что ты просидела со мной на больничных!
Сколько упущенных возможностей и никакой благодарности.
Ты хотела балерину, а я была неуклюжей. Ты хотела музыканта, а мне медведь на ухо наступил. Ты хотела журналиста/дипломата/переводчика, а я не был, не был, не был. Не была, не была, не была. Не дотягивал/а, не соответствовал/а. Сколько твоих нервов! Сколько твоих сил! Сколько твоих жертв!
И прорывается злобное подростковое: А я тебя просил/а меня рожать?
И тогда: твой ход — вздохи. Мой ход — злоба. Твой ход — валерьянка. Мой ход — бегство. Твой ход — валерьянка +. Мой ход — звонки по понедельникам.
Мне хочется быть от тебя подальше, желательно на другой планете, со связью в одну сторону: чтобы я видел/а и слышал/а тебя и убеждался/-лась, что ты в порядке, а вот ты меня — нет. Пусть я для тебя исчезну. Эти муки, закончатся, мама, когда после песенки «ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети», я увижу, я пойму, что вздохи твои не ко мне. А к той жуткой, немилосердной, жесткой и холодной Всеобщей Матери, которая подменила «просто быть» на «как надо быть». Это она тебя бросила. Это она тебя подвела. Она тебя потеряла, нет, хуже — оставила. Ты все делала, как ей было надо. Как правильно. Как лучше. Как умела. И не получила за это ничего. Это ты — брошенный ребенок. Может быть, даже, уже без надежды, найтись.
В день, когда я это пойму, может быть, я даже обниму тебя, мама.