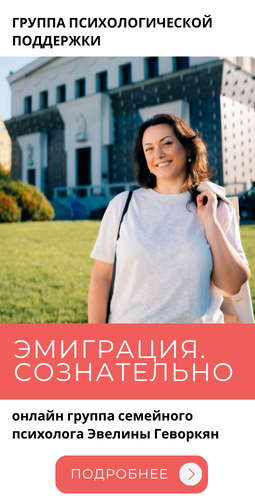Монолог матери стрелка из школы «Колумбайн»

Текст выступления матери стрелка из американской школы «Колумбайн», спустя годы после трагедии. «Куда смотрели родители?», «Кто мог вырастить таких людей?», «Неужели никто в семье не замечал, что с ними что-то не так?» — эти вопросы всегда звучат в адрес тех, чьи дети приходят в школу с оружием и убивают. Сьюзан Клиболд, мать Дилана, рассказывает, как чувствует себя мама массового убийцы и самоубийцы, и что она со временем поняла о своём сыне.
Последний раз я слышала голос сына от входной двери — он шёл в школу. Он кинул в темноту одно слово: «Пока».
Это было 20 апреля 1999 года. Тем же утром в средней школе «Колумбайн» мой сын Дилан и его друг Эрик убили 12 учеников и одного учителя и ранили более 20 человек, а потом покончили с собой. Тринадцать невинных людей были убиты, их близкие пережили страшное горе. Другие получили травмы, некоторые были обезображены или стали инвалидами на всю жизнь. Но масштаб трагедии нельзя измерить только количеством смертей и ранений. Невозможно оценить тот ущерб, который был нанесён всем, кто был в школе. Тем, кто спасал детей и учителей. Тех, кто потом чистил школу от крови. «Колумбайн» стал трагедией, масштаб которой нельзя оценить. Потому что он стал схемой для будущих стрелков, которые решились на подобное. «Колумбайн» был цунами. Обществу потребовались годы, чтобы понять масштаб его влияния на окружающий мир.
Мне потребовались годы, чтобы принять то, что осталось от моего сына. Он в его последние часы и минуты и мальчик, которого я знала, — это два совершенно разных человека. Люди спрашивали меня: «Как вы могли не знать? Что вы за мать?» Я сама до сих пор задаю себе эти вопросы.

До этих событий я считала, что я — хорошая мама. Что я забочусь о детях, воспитываю осознанных и внимательных взрослых — это было моей главной задачей в жизни. Трагедия показала, что как родитель я провалилась. Поэтому я сейчас стою перед вами.
Я и отец Дилана — мы были теми людьми, которые любили его больше всего. И если что-то происходило, я должна была это чувствовать, так ведь? Но я ничего не чувствовала
Сегодня я здесь, чтобы поделиться опытом. Как это — быть матерью человека, который причиняет боль и убивает. В течение многих лет я перебирала воспоминания, пытаясь найти точку, в которой совершила родительскую ошибку. Но у меня нет никакого чёткого понимания. Всё, что я могу, — только поделиться тем, что узнала в попытках ответить на собственные вопросы.
Когда я встречаюсь в людьми, которые не знали меня до трагедии, передо мной всегда три задачи. Когда я вхожу в комнату, я не знаю, есть ли среди собравшихся люди, которые потеряли близких в результате действий моего сына. Я несу на себе страдания этих людей, потому что он больше не здесь. Поэтому я сразу прощу прощения у вас, если он причинил вам боль.
Мой второй вызов — просить о понимании и даже сострадании, когда я говорю о самоубийстве моего ребёнка. За два года до событий в «Колумбайн» он написал, что режет себя. Что он — в агонии и мечтает покончить с собой. Я ничего не знала об этом до тех пор, пока он не умер.
Когда я говорю о самоубийстве, я не пытаюсь преуменьшить вину Дилана. Я пытаюсь понять, как мысли о суициде стали планом массового убийства
Я много читала и говорила со специалистами. Сейчас я верю, что стрельба не была следствием желания убить, она была следствием желания умереть.
Третий момент. Когда я говорю о своём сыне, убийце и самоубийце, я говорю о ментальном здоровье и насилии. Я хочу, чтобы люди лучше понимали природу психических заболеваний. Очень малый процент тех, кто страдает психическими расстройствами, в итоге применяет насилие к другим людям. Но среди тех, кто кончает жизнь самоубийством, таких 75, а, может, и 90%.
Вы прекрасно знаете, что наша система здравоохранения не может помочь каждому. Не все людям с деструктивными мыслями ставят какой-либо диагноз. Многие из тех, кто живёт в состоянии страха, безнадёжности, гнева, никогда не обращаются к врачу. Они привлекают наше внимание только тогда, когда дело доходит до поведенческого кризиса, который заметен извне. Если оценки специалистов правильны, то примерно 1-2% самоубийств связаны с убийством других людей. Когда растёт уровень самоубийств, одновременно начинает расти и число тех, кто одновременно и убийцы, и самоубийцы.
Я пыталась понять, что происходило в голове Дилана перед смертью. Встречалась с теми, кто потерял близких в результате суицида, изучала эту тему, работала в фондах, говорила с теми, кто смог преодолеть желание покончить с собой.
Одна из самых полезных подобных бесед была с коллегой, которая услышала меня офисе. Я сказала, что, наверно, Дилан не любил меня, если он пошёл на подобное. Позже, когда рядом со мной никого не было, она подошла и сказала, что я не права. Она рассказала, что в молодости стала матерью-одиночкой. У неё были трое маленьких детей и депрессия, из-за которой её даже отправили в больницу. Тогда она была уверена, что детям будет лучше, если она умрёт. У неё даже был план, как покончить с жизнью. Она сказала мне, что материнская любовь — это самая сильная любовь на Земле. Она любила детей больше всего на свете, но из-за болезни была уверена, что им будет лучше без неё.
Из этого и других разговоров я поняла: решение о том, чтобы уйти из жизни, не принимается так же, как выбор, куда нам пойти в субботу вечером. Когда человек одержим такими мыслями, ему в срочном порядке нужна медицинская помощь. Мышление у этих людей нарушено, они не могут управлять собой. Даже если они и могут что-то спланировать и действовать логично, у них теряется чувство правильного. Оно искажается болью, через которую они воспринимают реальность.
Некоторые люди умеют хорошо скрывать такое состояние, у них есть на то веские причины. Да, у любого из нас могут возникнуть мысли о суициде, но это не превращается в навязчивую идею. Постоянное желание умереть — это симптом патологии. И, как многие другие болезни, это нужно уметь распознавать до того, как жизнь потеряна.
Смерть моего сына не была просто самоубийством. Это было и массовое убийство. Я хотела узнать, как мысли о том, что твоя жизнь кончена, превращаются в желание уничтожить других людей. Исследований на эту тему мало, тут тоже не простых ответов.

Да, у Дилана, скорее всего, была депрессия. Он был самоуверенным перфекционистом, поэтому ему, скорее всего, было сложно обратиться за помощью. Отношения в школе погрузили его в унижение и безумие. Он дружил — и это была непростая дружба — с мальчиком, который разделял его гнев и отчужденность. Он тоже был серьёзно травмирован и настроен против людей. Именно в этот период максимальной уязвимости и хрупкости Дилан получил доступ к оружию. У нас дома оружия никогда не было. Это оказалось так просто для 17-летнего мальчика — купить оружие, легально и нелегально, чтобы об этом не узнали родители. Как мы видим, ситуация с оружием не изменилась и по сей день.
То, что сделал Дилан, почти уничтожило и меня. Через два года после событий в школе мне диагностировали рак груди, ещё через два года — серьёзные психические проблемы. Я постоянно думала о том, что сейчас встречу кого-то из родных тех, кого убил Дилан, что меня настигнут журналисты или разгневанные горожане.
Я боялась читать новости, боялась, что услышу в свой адрес, что я — ужасная мать и просто отвратительный человек
У меня начались панические атаки. Впервые — спустя четыре года после «Колумбайна», когда я должна была встретиться лицом к лицу с родными погибших в школе. Второй — спустя шесть лет, когда я готовилась к конференции, где выступали родственники убийц-самоубийц. Оба эпизода длились несколько недель. Паника настигала меня в любом месте и в любое время, в магазине, офисе, в собственной кровати. Мой мозг находился в замкнутом цикле страха и, как я ни пыталась успокоить саму себя, у меня ничего не получалось. Мне казалось, что мой собственный разум пытается убить меня, а потом, боясь страха, начал пожирать абсолютно все мои мысли.
На собственном примере я прочувствовала, что такое психические проблемы, поняла, что надо бороться. С помощью терапии я смогла вернуться к состоянию, которое считаю нормальным. Оглядываясь назад, я понимаю, что мой сын находился в подобном цикле дисфункции, наверно, около двух лет. Этого достаточно было бы, чтобы ему помочь. Если бы хоть кто-то понял, что ему нужна помощь.
Когда меня спрашивают «как вы могли не знать?» — это всегда удар в солнечное сплетение
Это обвинение, которое касается напрямую моей вины, от которой не избавит никакая терапия. Но вот чему я научилась за это время: если любви достаточно, чтобы помочь кому-то не причинить себе боль, то, скорее всего, самоубийство не случится. Но одной любви мало.
Мы знаем, что самоубийство — вторая по статистике причина смерти в возрасте от 10 до 34 лет. 15% американских подростков признают, что у них были мысли о том, чтобы покончить с собой. Я знаю, что вне зависимости от веры в самих себя и свои возможности, мы не можем контролировать все мысли и переживания тех, кого любим. Упорная вера в то, что наши близкие и любимые люди не смогут причинить боль себе и окружающим, ослепляет нас, из-за неё мы можем пропустить важный знаки. Но если всё пошло по худшему сценарию, мы должны научиться прощать самих себя за то, что мы чего-то не знали или не задали вовремя правильный вопрос.
Мы должны помнить, что тот, кого мы любим, может страдать — даже если он никогда ничего не говорит об этом. Мы должны уметь слушать без осуждения
Я знаю, что буду всю жизнь жить с этой трагедией. Я понимаю, что многие считают мою потерю несравнимой с потерями других семей. Понимаю, что мои страдания не сделают ничего проще. Я знаю и то, что многие не признают за мной права на боль, я должна жить только в покаянии. Но в конце концов всё сводится к следующему: трагедия в том, что даже самые ответственные не всегда могут предотвратить какие-то события. Но ради любви мы должны продолжать пытаться понять, что за ними стояло. Спасибо.
Источник — Мел.фм и TED